Вообще, это был просто хороший повод надраться. Пили до тех пор, пока было что пить. Про кофе и десерт, естественно, никто не вспомнил. Никто не вспоминал уже и про Новый год, наилучшие пожелания и т.д., просто пили, и мой муж собирался бить морду какому-то Роме, которого никто не знал и который неизвестно как затесался на этот творческий вечер союза художников.
Я с трудом вытягиваю мужа на улицу, попутно соображая, а на фиг мне нужен был это праздник: ни потанцевать, ни поговорить ни с кем: все вокруг очень пьяные. А теперь вот еще и пьяного мужа домой транспортировать. И как назло ни одной маршрутки. На счастье подходит троллейбус, следующий в депо. Депо от нашего дома в двух кварталах, но это можно осилить.
Муж, конечно, ни черта не соображает, зачем мы садимся в этот троллейбус. Потом, когда немного берет в толк, куда мы едем, все пытается расплатиться с кондуктором, доказывая свою мужскую состоятельность, хотя я уже расплатилась сразу на входе, но этот момент выпал у него из памяти. Вообще, когда мой муж выпьет, он начинает слишком громко разговаривать — незаметно для себя, но слышимо для окружающих — о том, что наблюдает вокруг. Что Зою, например, к сорока годам разнесет, а у Кошкина лицо желтое — видно, больная печень. Теперь, в троллейбусе, он рассказывает, сколько у него в бумажнике денег и что с ним наконец расплатились в издательстве. Я все боюсь, что он вытряхнет деньги в троллейбусе, тогда будет их не собрать. «Я соображаю, что делаю!» — муж отталкивает меня, размахивая бумажником, но так и не может добраться до кондуктора, потому что сильно мотает. Вообще-то я еще ни разу не видела, чтобы пьяный мужик признался честно, что ни черта не соображает.
Наконец приезжаем в депо. Кондукторша выскакивает через переднюю дверь, а я кое-как выталкиваю мужа на улицу. Он не сразу соображает, где мы находимся, поэтому приходится взять его под руку и тянуть за собой в нужном направлении.
— Я знаю, где я живу! — он еще сопротивляется немного, но потом обмякает, осознав, что это бессмысленно, и двигает вместе со мной вперед по улице, теряющейся в сизой морозной дымке. Двухэтажные бараки по обе стороны дороги темны, горят только два-три окошка, как будто для антуража, чтобы всем было понятно, что эти дома, похожие на гнилые зубы, обитаемы.
Иногда я думаю, что именно такой дорогой души обитателей наших кварталов уходят на тот свет. И никаких тебе полетов в туннеле — та же плохо освещенная дорога, которой они при жизни ходили в магазин за хлебом, сосисками и пивом. В этом состоял весь смысл их пребывания на земле, и то же ожидает их детей, которые видели остальной мир только по телику… Впрочем, я сама хожу этой улицей вот уже двадцать лет — с тех пор как вышла замуж и поселилась в этом квартале для небогатых людей. Прежде все думалось, что временно, однако бедность — это состояние души, а не кошелька. Пожалуй, и мне когда-нибудь предстоит уйти навсегда этой же улочкой, раствориться в сизой дымке зимы и забвения. Однако теперь мне просто хочется достичь убогого своего приюта и доставить туда мужа живым.
Он идет, чуть приседая, на полусогнутых, как обычно ходят пьяные. Больше всего я боюсь, что он поскользнется или упадет, тогда мне будет его уже не поднять. Попутно он поругивает дорогу, изрытую постоянным ремонтом теплотрассы, городские власти, министерство культуры и меня, за то, что я как-то не так иду и что сегодня опять надела трикотажные штаны, в которых моя задница выглядит слишком обширной.
Вообще, он прав насчет моей задницы. Корма у меня широкая, но она не всегда была такой. Задница у меня появилась после того, как я некоторое время сдавала кровь. Донорство по-разному влияет на людей: кому ничего, кого-то несет, как на дрожжах из-за этого обновления крови, а у меня неожиданно появилась круглая упругая задница. Почему, из-за каких таких процессов, — по-моему, уже не важно. Кстати, кровушку-то я пристрастилась сдавать, когда у нас совсем не было денег. В моем учреждении зарплату не платили месяцами, а муж был еще проникнут романтическими настроениями и считал, что торговать собственной продукцией, картинами, то есть, художнику ни к лицу… В общем, сидели по уши в долгах, и никакого просвета не намечалось там, впереди.
Когда я впервые сообразила продать свою кровь, очень странным показалось, что за продукт, который мне самой ничего не стоит, дают живые деньги. Я накупила окорочков, капусты, картошки. Нажарила мяса, сварила борщ. И вот, когда мы этот борщ ели, я так соображала про себя, что это же все равно, будто мы меня едим, мое тело…
Муж внезапно останавливается, будто вспомнив что-то очень важное.
— Я не купил сигареты, — говорит он, судорожно обшаривая карманы.
— Ничего, не помрешь до утра, — я тяну его вперед. К ночи подморозило, и у меня порядком закоченели пальцы в легких ботинках.
— Ты не представляешь себе, что такое сидеть без сигарет.
— Да, не представляю. И все равно сигареты ты сейчас нигде не купишь.
— Там возле стадиона ларек.
— Ларек давно не работает.
— Тогда зайдем в магазин. Он двадцать четыре часа. Куда ты тянешь меня?
— К магазину, — я стараюсь отвечать коротко, по делу, чтобы не раздражать его. И все-таки он вздрагивает, как будто я сказала что-то резкое.
— Знаешь, а ведь мы с тобой совсем чужие друг другу, — он произносит это совершенно спокойно, будто даже чуть протрезвев.
Однако он глубоко неправ. Мы связаны моей кровью, за счет которой некоторое время держались на плаву. И ведь он даже не предполагал, что я сдаю кровь. Он думал, что мне просто дают очередную зарплату, покупал на эти деньги сигареты, однажды купил тюбик краплака красного, чтобы закончить картину «Маки». Их, кстати, он так и не продал. Не потому, что «Маки» написаны плохо. Напротив, очень даже неплохо. Поэтому ему не захотелось расставаться с ними, и теперь «Маки» висят у нас в прихожей. Там тусклое освещение, «Маки» теряются, но больше повесить некуда, потому что все стенки уже улеплены от пола до потолка.
Лет десять тому назад я продала свои волосы. У меня была коса — густая, пушистая. Потянула на кило-двести. За нее в парикмахерской дали офигенные деньги. Столько денег зараз мне ни за что не заработать — ни тогда, ни сейчас. И вот я тоже удивлялась, как это мне заплатили за что, что досталось мне совершенно бесплатно. Косу не жалко: она снова выросла, правда не такая длинная, но длинной уже и не надо, я хочу распущенные волосы носить иногда, а слишком длинные приходится закручивать в пучок, а это сильно старит…
— У нас даже нет общей темы для разговора, — продолжает муж, неуверенно скользя по обледеневшей дороге. Колдобины и трещины асфальта теперь только на пользу: подошвы находят хоть какую-то опору. — С тобой можно говорить только про еду и про то, что денег не хватает даже на эту еду. Не так уж много я ем.
«Зато много пьешь», — отвечаю я про себя, но вслух сказать не решаюсь.
Тогда продажу косы, естественно, нельзя было скрыть, поэтому мужу поначалу было немного стыдно. Но когда волосы отросли, все вроде бы стало на свои места и факт забылся. Остался телевизор, который мы купили с продажи моей косы, да еще пылесос. И то, и другое работает до сих пор. Однако это не главное. Почему-то сразу после этой истории дела у него пошли в гору. Думаю, не случайно люди приносили всякие жертвы, чтобы боги послали им урожай или удачу на охоте. Когда я сняла косу — это же все равно, будто бы я отдала часть себя. Доказала кому-то, сама не знаю кому, что способна пойти ради него на некоторые неудобства… Хотя — почему только ради него? Ради себя тоже. Не хотелось терпеть лишения, залезать в долги… Я бы с удовольствием продала бы еще что-нибудь свое, к примеру, кожу со своей обширной задницы, да кому она нужна. Нет, конечно, если муж по пьянке уснет с сигаретой, получит ожоги — я без сожаления отдам ему кожу, пускай натянут ему на лицо. Он порядком поистрепался за прошедшие двадцать лет …
Наконец мы добираемся до магазина на перекрестке. К дверям его с тротуара, чуть под горку, вела раскатанная дорожка, по которой можно было только проехать. Похоже, на холоде муж уже немного протрезвел, потому что тоже понимает, что к магазину просто так не пройти. Вцепившись друг в друга, мы связкой съезжаем вниз и впечатываемся в стеклянную дверь. На секунду я как бы вижу нас с той стороны — два тела, расплющенных о стекло. Потом мне удается потянуть дверь на себя, и мы кое-как проникаем внутрь.
— С утра под дверью песком надо посыпать, — говорит продавщица кассирше. — Люди на ногах не стоят.
Муж некоторое время препирается на кассе, почему в продаже нет сигарет, которые нужны ему, а я тем временем решаю прикупить чай, булку и колбасу, потому что не успела сделать это после работы. Собиралась на этот дурацкий вечер.
— Будет чем позавтракать, — говорю я, когда мы выходим из магазина.
— Ты опять про свою еду, — нервно отвечает он. — Мне сейчас даже кажется, вот дай я отмашку, и ты пойдешь вперед одна. И даже не обернешься.
Взмахнув рукой, муж грохается на спину, и внутри него даже что-то булькает. Усевшись на землю рядом с ним, я выталкиваю его с этой ледяной дорожки.
Может быть, когда-то именно так и произойдет, что я молча пойду вперед, не оглядываясь. Может быть, это случится даже завтра. Но сегодня мне нужно доставить его домой. Не только потому, что у него бумажник набит деньгами. Нельзя же бросить пьяного человека на полпути. Осталось совсем немного.
Январь 2008
Последние новости
- 19:31 Купить утеплитель для фасада
- 12:41 Приобрести качественные окна по хорошей цене
- 23:01 ТЭЦ-2 – энергетическое сердце Владивостока: планы по модернизации станции
- 20:11 Округ первый: муниципальная реформа заглянет во все районы Приморья
- 18:11 "Спичку кинь, рыба сгорит": кто и как засоряет залив Находка
- 16:01 Очередной точечный скандал
- 13:52 Мужчинам не нужен праздник
- 11:52 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
- 9:51 Зачем Владивостоку деревья?
- 7:41 "На уровне кризиса": инцидент с театром кукол показал проблемы развития
- 13:01 Недвижимость Владивостока в поисках спроса
- 11:01 Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития
- 8:51 Ипотечный ажиотаж: Хотели как лучше, получилось как всегда
- 9:41 Во Флориде сравнялось количество голосов у обоих кандидатов на пост президента США
- 7:31 Штат "одинокой звезды" и Канзас перешли на сторону Трампа
- 5:31 Кандидаты в президенты США дышат друг-другу в спины
- 23:21 Вооружённые наемники не пускают докеров в ВМТП
- 0:45 Как Botman помогает автоматизировать продажи через чат-ботов
- 2:40 Секреты безупречного выбора дачных откатных ворот
- 23:40 Аренда посуточно - как найти жильё быстро











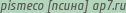 |
|