В Петрозаводске совсем без шума, тихо, прошел концерт Умки. Она была без музыкантов, даже без гитары. Наш город стоял где-то в середине ее бешеного гастрольного графика — чуть ли не каждый день она пела в разных городах и на разных площадках.
Умка — тонкий автор, хорошо чувствующий и слово, и интонацию. Она честная, иногда прямолинейная, и поэтому кажется незащищенной. Её концерт в Петрозаводске длился почти пять часов, уже в ночи она поехала на вокзал — меньше, чем через сутки у нее был концерт в Питере.
По правде говоря, я до сих пор нахожусь под впечатлением от общения с человеком, который так самоотверженно сохраняет все свои принципы, связанные с самыми высокими понятиями, который наполнен до края очень сложными обстоятельствами, но так прост и открыт в диалоге со слушателями.
Между тем, Умка оказалась очень придирчивой к словам, написанным от ее имени. Интервью с ней пришлось несколько раз редактировать, потому что она настаивала на том, чтобы каждая буква в тексте была правдивой, настоящей, такой, какой она звучала в беседе. За исключением одного непечатного слова, которое мы опустили, остальное — почти дословно.
— От чего зависит ваш образ на концертах?
— Я вообще никогда не думаю ни о каком образе. Я категорически против образов. Как удобно, так и живешь. У меня мама такая была, и я сама так привыкла делать.
— Есть ли у вас такое разделение: Умка пишет песни и выступает с концертами, а Аня Герасимова — литератор и переводчик?
— Нет, это шутка такая. Иногда люди удивляются: «О, это ты, оказывается, книжку про обэриутов написала?» И мне нравится внутри одной моей жизни проживать много разных других. Я и автостопом ездила, и замуж за того и за другого ходила, и там и сям жила — и в Севастополе, и в Вильнюсе.
— Я слышала историю, когда вы на крутую конференцию приехали читать доклад автостопом.
— Да, через пол-Европы ехала из Москвы в Загреб автостопом. Не из-за выпендрежа, а просто мне билет на самолет никто не купил, и я подумала: «Ах, так! Так я к вам сама приеду!» В Хорватии была конференция «Понятийник русского авангарда». Организаторы четыре года меня на нее приглашали, а на пятый год им урезали финансирование, и на мой билет денег не хватило. Зато потом обнаружилось, что у них не приехал самый модный участник, и лучший номер в гостинице оказался свободным. Он был с зеркалом на потолке, с ванной-джакузи и прочим. Я такая с автостопа приезжаю, а номер для меня уже готов!
— Где вам лучше, в какой стихии?
— Мне хорошо везде, где мне не наступают на хвост. Сейчас я изо всех сил пытаюсь спасти свой хвост от наступания и машу им изо всех сил. Очень быстро надо перемещаться.
— Поэтому вы так часто ездите по городам?
— Я всегда езжу по городам, но сейчас только по России. А раньше мы ездили так: неделю — в Москве, неделю — в Вильнюсе, неделю — в Севастополе, неделю — в Америке, неделю — в Берлине. Все время прыг-прыг, и смерть не догонит тебя. А сейчас надо какие-то специальные усилия прилагать, чтобы чувствовать себя бессмертной, потому что без этого ощущения сдохнуть можно очень быстро.
— Вы не похожи на столичного жителя. Кажется, что вы из Питера почему-то.
— А что, Питер не столица, что ли? Некоторые люди, знаю, считают, что все нормальные люди — питерские. На самом деле это не так. В Питере тоже полно понтярщиков, а в Москве тоже полно нормальных людей. С тех пор, как все перемешалось, и народ стал валить в Москву, их стало еще больше. В Москве все жестче, поэтому мы там периодически встаем в стойку. В Питере посвободнее, можно расслабиться.
Я же не коренная москвичка! У меня нет такого московского самоощущения: вот у нас Москва, а вы все понаехали. Да, я родилась в Москве, здесь же с детства росли мои родители, но родились они в других местах: мама — в Минске, папа — в Херсоне. Мои родители сами понаехали. Я как бы москвичка, но у меня нет столичного самоощущения, поэтому я с радостью уехала из центра Москвы и сейчас живу на далекой окраине — в городе Зеленограде. Прекрасный город, весь в лесу. Здесь у нас дача раньше была. И я совсем не хочу снова жить в центре Москвы, мне нравится быть подальше.
Когда-то я с большим удовольствием жила в Севастополе и считала себя местной. До того, как город стал местом столкновения политических амбиций, там было здорово. Мне кажется, что вся эта современная эсхатологическая муть, которую людям навязывают, что сейчас будет такой кошмар, в 100-200 километрах от Москвы уже воспринимается не так остро. А в 1000 километрах от столицы вообще красота. Чем дальше от Москвы, тем спокойнее, нормальнее жизнь.
— Чем вы занимаетесь в Зеленограде, кроме подготовки к выступлениям?
— Сижу за компьютером, литературу долбаю. Давеча я играла концерт, и один человек, который меня не знает, спросил: «А вы что, претендуете на литературу?» Я ему: «Я не претендую. Это она на меня претендует». У меня литературная семья, я закончила Литинститут, всю жизнь я перевожу и пишу какие-то статьи, — я по уши в этих буквах. И я делаю какие-то книжки, не себе, так другим.
— А сейчас какую книжку вы делаете?
— Сейчас я сделала книжку про Силю, одного из немногих настоящих. Я не буду говорить последних, потому что, может, новые появятся. Из моего поколения он — один из немногих оставшихся таких, прямо без страха и упрека. У него песни прекрасные, и жизнь он прожил безупречную в рок-н-ролльном смысле. От этого, собственно, и помер, как это бывает. Я составила книжку воспоминаний про него. Он умер 11 января, все стали писать о нем, я тоже что-то написала, а потом стала собирать эти воспоминания и как на совочек сметать в кучу. А потом поняла, что — книжка! И я все отложила, и день и ночь делала эту книжку. И к сороковому дню я ее собрала и издала. Это первое издание, еще будет второе. Мне показалось, что это очень и очень важно. А на самом деле, я сейчас пишу примечания к переведенной мною автобиографии Томаса Венцловы. Перевела быстро, а в примечаниях застряла. Параллельно я решила собрать в книгу все, что я писала в интернетах. В этом году мне будет 60 лет, вот к этому юбилею-неюбилею. Назову ее «Много букв, или Опавшие иголки». У Розанова были «Опавшие листья». «Если я была бы лесом, я была бы хвойным лесом» — опавшие у меня не листья, а иголки.
— Ахматова тоже любила эти иголки.
— Ахматова, может, тоже была бы хвойным лесом. Она любила пошутить, вышутить кого-то.
— У вас профили похожи.
— Нет. У нее профиль татарский, а у меня профиль еврейский. Абсолютно разные. У нее покрасивее, честно говоря. А у меня даже смотреть не на что.
— В Фонтанном доме, в музее Анны Ахматовой, работает сын моей подруги. Знаю, что у вас там была организована большая встреча.
— В музее Анны Ахматовой я делала презентацию книжки Томаса Венцловы «Metelinga. Стихотворения и не только». Там сборник стихов плюс биографическая документальная литература (художественная литература с годами стала меня интересовать меньше). По-моему, лучше, чем в жизни, не придумаешь. Я беру, допустим, перевожу книжку стихов литовского поэта, делаю билингву. А потом добавляю туда всякого про его жизнь. Потому что мне, когда я читаю поэта, интересно про все, что с ним было: как он родился, как рос, какими были его родители, друзья, приключения, поездки. Поэтому я делаю половину книжки — стихи в переводе, а во вторую половину помещаю письма, воспоминания, его слова, интервью. Я сделала три таких книжки про литовских поэтов. Устроила презентацию одной из них — Metelinga — в Питере. Народищу пришло! Он же с Бродским дружил.
— Вы говорили, что когда вы переводили Керуака, хотелось вступить с автором в диалог!
— Да, хотела в примечаниях написать: «Да, а у нас тоже, помню, был случай…» В принципе, я это практически уже и сделала.
— Есть книжки, где комментарии в несколько раз объемнее текста!
— Вот Лекманов со Свердловым сдали книжку «Египетская марка» Мандельштама тоже с очень внушительными комментариями. Я очень это люблю. Я прежде всего в книжке комментарии читаю. И сама так хочу делать. У Венцловы есть автобиография — сейчас модно делать такие, как бы с журналистом. Журналист спрашивает, а он как бы отвечает. Хотя я бы предпочла, чтобы он сам написал. Он остроумно говорит и пишет, а книжка немножко получилась спокойной, академичной. Не важно, все равно хорошая. Я бы другие вопросы задавала и вообще бы сделала все это поживее. К сожалению, я сейчас не могу доехать до Вильнюса, но я с ним в постоянной переписке. Я спрашиваю, а он на полстраницы пишет свои соображения. И я ничтоже сумняшеся вставляю это в комментарии со всеми его словечками и шутками. Мне вот это нравится, я люблю, когда смешно. И не люблю, когда не смешно.
— Мне нравится интервью с Феллини в книжке «Феллини о Феллини». Он там, к слову, говорит, что всегда боялся что-то упустить интересное в жизни. Что пока он находится в одном месте, в другом, может, что-то происходит потрясающее. Его это мучило.
— Да, Феллини — любимый мой человек. Мне кажется, это любого нормального ребенка мучает, который не сидит, конечно, в телефоне. Сейчас их немного тормознули этими телефонами. Но, с другой стороны, они перестали драться. Мой внук Платон — человек неординарный, он много читает, общается со взрослыми на равных. Раньше такому мальчику было бы не прожить спокойно в школе. «Ну что, Платон, — говорю. — Достают тебя в школе? — «Нет, они все в своих телефонах сидят».
А раньше все дрались. А девочки как дрались! У меня до сих пор есть шрамик — это меня девочка поцарапала, Инна Чиркова.
— Что вы ей сделали?
— Я ничего не делала, они царапались. У них был такой прикол. Их было трое, они нападали на человека, и с ними надо было драться. А главной была Инна Чиркова. Интересно, что с ней стало, царапается она до сих пор или нет?
— Зачем вам был нужен Литинститут?
— Литинститут, как и другие так называемые творческие вузы, был вольницей. Во-первых, там не надо было учиться. Все учение состояло в том, чтобы читать книжки и потом их пересказывать. Мы эти книжки перед экзаменом бешено читали на скорость. Помню, как мы читали книги к экзамену Егора, моего мужа, по каким-то французам XIX века. Муж учился на курс младше меня. Французы — Стендаль, Золя этот бесконечный — написали километры прозы. У нас подготовка к экзамену заключалась в том, что мы сидели ночью и очень быстро листали произведения этих французских классиков. Находя какое-то эротическое место, друг другу вслух его зачитывали. И так ничего, сдавали на «5». Я вообще на пятерки училась, конечно, везде. Что там учиться-то особо? На личном обаянии выезжаешь. Однажды мне пытались «4» поставить по советской литературе, чего-то я не читала. То ли «Жизнь Клима Самгина», то ли еще что Горького. И я говорю Сурганову, он был спец по Горькому: можно, я пересдам? Он рассвирепел и изумился: «Чтооо? вам четверки мало?» — «Ну не то чтобы мало, но я хочу 5, не хочется из-за одной оценки аттестат портить, видите, какой он у меня красивенький». И он, мрачно скрипнув, поставил 5.
— Вы — перфекционист?
— Нет, наоборот. Я верхогляд и гастролер.
— Что это значит?
— В данном случае я просто хотела, чтобы у меня была пятерка, потому что у меня всегда были только пятерки — я к ним привыкла. Учиться для этого было необязательно. Тем более, необязательно было читать «Жизнь Клима Самгина», пускай они задушатся. Во-вторых, ясно же, что если я захочу, я могу на все пятерки ему все посдавать, выучить там. В школе я все домашние задания делала прямо на уроках. Они потом это прочухали: «Герасимова, ты что там опять?…» — А, может, у меня дома не было времени на уроки! Дома я сидела и писала романы из жизни русской интеллигенции XIX века.
Лучше бы я гуляла с мальчиками, думаю сейчас. Роман назывался «Безумцы». Так же называлось стихотворение Василия Курочкина, перевод из Беранже. Это было про поэтов «Искры», не ленинской, а нормальной, XIX века. В сатирическом журнале «Искра» были Дмитрий Минаев, Василий Курочкин, разные другие остроумные и прекраснейшие дядьки. И я прямо какую-то человеческую связь с ними ощутила. Это был восьмой или девятый класс. Потом я написала другой роман. Он назывался «Алеша» и был уже посерьезнее. Про мальчиков, которые учились в университете в 1870-е годы. Там у меня были аллюзии к ХХ веку, к современной жизни. Потом я поняла, что прозу мне писать не надо.
— Почему?
— Потому что я не умею писать прозу, создавать сюжет. Как у большинства активных людей, которые все время хотят новых впечатлений, у меня нет фантазии. Я ничего не способна выдумать, изобрести. Я способна только классифицировать, воспроизводить и излагать. Или маленькую искорку поймать в виде стишка или песенки. Большой костер в виде романа я разложить не могу. А сын мой, Алексей Радов, пишет настоящую прозу — авангардную, жестко авангардную. Очень уважаю. Я в прозе могу только написать про свою жизнь. Может, поэтому я люблю давать интервью. Давать интервью — это не мешки ворочать, просто сидишь и про себя рассказываешь.
Я же не писатель, я — литератор. Я могу что-то поймать — где-то отзвук, где-то рифмочку смешную придумать.
— Поэтомуу у вас не стихи, а стишки? Откуда взялось это название для сборника «Стишки для детей и дураков»?
— А это я для смеха. Это я из Хармса почерпнула. Я, когда в этих архивах обэриутских сидела, то многое переписала от руки. Весь архив обэриутский в Питере я переписала от руки. Там было много штучек, которые тогда никто не знал, это сейчас они все опубликованы. И вот в архиве лежит, допустим, бумажка с надписью от руки: «Евстигнеев смеется. Пьеса для детей и дураков». Красивыми буквами написано это заглавие на маленьком листочке, а пьесы никакой нет.
Когда меня издательство спросило, есть ли у меня детские стихи, я сказала: нет. Я считаю, что детям вполне годятся взрослые стихи. С другой стороны, у меня все стихи детские, потому что они простые и примитивные. Мои учителя в поэзии — Чуковский и Маршак. Книжка такая квадратненькая, в твердой обложке, тоненькая. Это у них была такая серия — и Бродский, и Мандельштам, все приличные писатели, поэты, написавшие какие-то детские стихи. Издатели мне говорят: «Ну, придумай что-нибудь, чтобы мы могли выпустить эту книжку в детской серии». И я подумала, что можно назвать мой сборник по-хармсовски «Стишки для детей и дураков». Кристина, мама моего внука, нарисовала к нему детские картинки.
— «Проблема смешного у обэриутов» — откуда взялась эта тема для диссертации?
— Я скажу, откуда взялось это название. Сначала мы с Егором (Радовым), моем мужем (он помер уже от неправильной жизни) сидели по молодости и прикалывались. Он мне говорит: у тебя все пятерки, ты можешь в аспирантуру пойти. И мы сидели прикалывались, придумывая темы диссертаций. Он говорит: напиши про Введенского. Мы стали ржать. Это было начало 1980-х, как раз вышел ардисовский Введенский. И это была непроходимая по тем временам тема, хотя там нет никакой политики. Чем хорош Литинститут? Тогда это было место, где можно было просуществовать абсолютно несоветскому человеку. У нас даже не было научного коммунизма. Какая-то была философия, то ли история партии… У нас преподаватель истории партии умер сразу, провел первую лекцию и умер. Профессор Водолазкин что ли. Или Водолагин. Мир праху. А научный коммунизм у нас читал такой гегельянец доцент Павлихин, умница. Больше всего на свете он любил Гегеля. Это целая история про этого Павлихина и Гегеля.
В Литинституте можно было на лекции не ходить, можно было иногда ходить. На философии мы должны были делать доклады. И мы с ребятами придумали философа. У нас компания была шикарная на курсе, очень веселая, несоветская. Мы под партой читали «Москву-Петушки» и разного другого Бердяева, «1984» и прочее. С нами учился Томас Чепайтис, сын Наташи Трауберг. У него водился самиздат в количествах. И мы все время сидели и под партой читали эту хрень. И мы с ним как-то за рюмкой чая сочинили философа и решили про него делать доклад. Я придумала ему фамилию — Швингер. Сделала ее из Гершвина. И придумали ему биографию, теории какие-то. И я делала доклад, допустим, «Проблема времени в европейской философии конца XIX века-начала XX века». И у меня там фигурировал этот Швингер, например. Там смешная была теория. Кто-то там рассматривал время как такую спираль, а если на нее посмотреть сбоку, то это будет синусоида, а если фронтально — круг, а если на круг посмотреть сбоку, то это будет вот такая вот штука, а если на эту штуку посмотреть сбоку, то получается пульсирующая точка. И вот время — это и есть пульсирующая точка. Вот это и придумал наш Швингер. Что-то такое я залудила и все это рассказала Павлихину. И вижу, что он сидит с багровым таким затылком, потому что не знает, кто такой Швингер. И наши ребята меня поддерживают: как сказал философ Швингер в своей работе «Бытие и небытие»…. Мы полностью задурили ему голову. После этого, хочется сказать концерта, он мне говорит: «Все это очень интересно. Ваш этот, как его, Швингер. Интересно, но это же все вторично. Надо же Гегеля читать!»
Я на переводе училась, мы придумывали каких-то несуществующих поэтов. Моей подружке Алене Шугаевой надо было каких-то финских поэтов переводить. Мы ей придумали финского поэта, написали за него целую подборку каких-то верлибров. Ржали страшно. А она, ничего, зачитала там всю эту подборку, ей зачли. Назвали его Пентти Мяккеля. У него были стихи, например, такие «О, как прекрасно озеро Олоярви в косых лучах заходящего солнца». И было стихотворение, которое называлось «Моя женщина». Все строчки у него были нумерованные. Первая строчка: «Моя женщина стоит правой ногой в луже, а левой у нее вообще нет». И разные другие. Про финскую баню там: «Когда я вхожу в нашу финскую баню, я очень голый…» Много было всякого такого разного. У нас Нина Садур на курсе училась. В любом другом институте ее бы выгнали, потому что никто на лекции не ходил. В общаге происходили пьянство и прыжки из окон с расшибанием насмерть и ненасмерть. Я хотела в университет, конечно, поступать, но родители, напуганные всей своей предыдущей жизнью, побоялись, что там меня, такую замечательную, сшибут, а потом мало ли что со мной может произойти и я пойду по дурной дорожке. Я все равно пошла по дурной дорожке, литинститутской. Тут же пошла, моментально. Все началось с портвейна и Мандельштама.
Я, когда поступала, говорила: «Папа, ну зачем мне этот Литинститут? Все же университет — это марка! А мой остроумный папа сказал: «Зато Литинститут — это контрамарка!»
— Понимать немецкий и литовский языки вас научила мама?
— Да. Потом это все усовершенствовалось в процессе чтения, перевода, практики. Потом в Германии удалось пожить, в Литве тем более. Так что я лучше сейчас знаю немецкий и литовский, чем при поступлении в институт. Да и английский я знаю лучше. Разговорный усовершенствовался. Пока мир был открыт, можно было ездить.
— Дома все разговаривали на русском?
— Конечно. Мои бабушка с дедушкой между собой иногда говорили на идиш — это был их родной язык. И когда они хотели что-то от меня скрыть, они говорили на идиш. Я бы и научилась этому языку у них, но мама опасалась. Это очень характерно для смешанных семей. Но надо сказать, что когда я начала учить немецкий, у меня было полное ощущение, что я его уже знаю. Идиш — это же такой бастард немецкого. Так я до сих пор идиша не знаю. И буквы эти не учила и не учу, это сложно и ни к чему.
Я вообще не могу учить ничего нового. Вот я европейские языки, романо-германские, как-то понимаю. Я могу по-итальянски газету прочитать, по-голландски газету прочитать, по-датски. А вот эстонский и венгерский я не могу понять. Мне не интересно. И иероглифы тоже — фантазии нет у меня. То есть, во мне такого разноцветного расшвыра во все стороны нет. Я очень квадратный человек, на самом деле.
— Понравился ли вам фильм Серебренникова «Лето» про Цоя?
— Я видела только куски. Я пришла в такой несоразмерный ужас, что не стала целиком смотреть. Зачем мне эта пятиминутка ненависти, растянутая на два часа? Мне на ненависть хватает 5 минут. Я очень не люблю лакировку. Было много интересного, удивительного, прекрасного. Зачем выдумывать другое, если это на самом деле было так? У тебя, например, брови квадратной формы. Зачем их выщипывать таким образом, чтобы они казались круглыми? Или наоборот. На фига?
— Есть мода.
— Так вот пусть они эту моду свернут в трубочку и засунут в какое-нибудь неподходящее для этого отверстие. Я прошу прощения. Я очень жестко настроена к таким людям. Я этого не люблю, не хочу, не буду. Я квадратная, я люблю, чтобы было как по-настоящему. Я не люблю выдумки никакие. У нас есть прекрасная жизнь, она сама по себе чудо. Каждая пылинка является доказательством бытия Божьего, зачем ее перевыдумывать?
— Какое время ваше любимое?
— 1986 год, конечно. Это наш 1968, только наоборот. Когда в 1986 году начался весь этот фонтанирующий выход песен, путешествий, друзей, тусовок. Была свобода, было очень круто. Хорошо получается, когда человек и век идут в ногу. Мой личный выплеск совпал со всеобщим. На этом великолепном начале я и еду всю жизнь. Тогда у меня были такие песни, что я до сих пор не понимаю, как я их сочинила. Откуда они взялись?
— Вы сначала гитару взяли в руки, а потом стали сочинять песни?
— Я все время пела, как всякий музыкально одаренный ребенок. Пела-пела, и родители отвели меня в хоровую студию, которая находилась в ДК рядом с нашим домом. Я с 5 лет занималась в хоровой студии «Веснянка». Там была такая Елена Николаевна Свешникова, гениальный педагог, замечательный человек. Я вспоминаю ее с восторгом. Она там выбрала еще себе такую экспериментальную группу по сольфеджио. Человек десять самых ярких, на ее взгляд. Я попала в эту группу. Это было очень интересно. Сольфеджио было интересно, а вот на пианино играть было совсем не интересно, просто ужасно. Я не приспособлена для игры на инструментах. Я умею забивать гвозди, класть паркет, копать землю, выращивать растения, готовить прекрасную еду… Чего я не умею, так это играть на инструментах, тут у меня руки растут из задницы.
— Какое-то фантастическое заявление!
— И они меня 9 лет учили играть на пианино, и это было ужасно. Всегда это было швыряние нот и топанье ногами. На месте родителей я бы не стала настаивать на этом. А потом, лет в 12, я взмолилась, чтобы все отстали уже от меня с пианино, а, пожалуйста, купили мне гитару. И мне купили гитару за семь пятьдесят. Ужасную. Это было орудие пытки какое-то, с огромным расстоянием между струнами и грифом. У меня были вечно черные пальцы, и они болели. Сначала гитара была семиструнная. А потом мне в школе объяснили ребята, что надо одну струну спичкой подколоть под гриф и получится шестиструнная. Я ее перестроила и сама подобрала аккорды. Мне нравилось подбирать. А исполнять какие-то этюды Черни — мама, как я это ненавидела!
Папа очень любил Высоцкого, мы все время слушали его на магнитофоне, все время он был где-то рядом. Мы, кстати, даже жили напротив дома Высоцкого на Малой Грузинской. Кроме Высоцкого рядом были Окуджава и Новелла Матвеева.
Новелла Матвеева жила в нашем доме на третьем этаже, а мы на пятом. Я с детства ее очень любила. Ее муж, Иван Киуру, приходил к моему папе одалживать деньги, потом приходила Новелла и отдавала их. Сохранились ее записки моей маме, письма, ее переводы из литовцев, бобины с ее надписями. Однажды она к нам пришла и сказала, что споет мне детскую песню про волка и лису. А я подумала, зачем мне детская песня, если я все твои взрослые песни знаю наизусть? Лет шесть мне было.
— Кого вы считаете крутым в нашей рок-музыке?
— Летова, прежде всего. Янку, Чёрного Лукича. Из несибирских это Силя, Чернецкий. Башлачев не совсем рок, он как Высоцкий. Хотя по наполненности и Высоцкий, и Башлачев, можно сказать, тоже рок. Есть современные неплохие авторы. Юля Теуникова, Денис Третьяков.
— А Борис Гребенщиков?
— Следующий вопрос, пожалуйста.
— Почему?
— Ну, пели мы в детстве Гребенщикова, но лет в 25 я перестала это слушать. Я, впрочем, некомпетентна. Мне стало просто неинтересно.
Последние новости
- 19:31 Купить утеплитель для фасада
- 12:41 Приобрести качественные окна по хорошей цене
- 23:01 ТЭЦ-2 – энергетическое сердце Владивостока: планы по модернизации станции
- 20:11 Округ первый: муниципальная реформа заглянет во все районы Приморья
- 18:11 "Спичку кинь, рыба сгорит": кто и как засоряет залив Находка
- 16:01 Очередной точечный скандал
- 13:52 Мужчинам не нужен праздник
- 11:52 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
- 9:51 Зачем Владивостоку деревья?
- 7:41 "На уровне кризиса": инцидент с театром кукол показал проблемы развития
- 13:01 Недвижимость Владивостока в поисках спроса
- 11:01 Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития
- 8:51 Ипотечный ажиотаж: Хотели как лучше, получилось как всегда
- 9:41 Во Флориде сравнялось количество голосов у обоих кандидатов на пост президента США
- 7:31 Штат "одинокой звезды" и Канзас перешли на сторону Трампа
- 5:31 Кандидаты в президенты США дышат друг-другу в спины
- 23:21 Вооружённые наемники не пускают докеров в ВМТП
- 19:32 Какие ставки принесут удачу?
- 22:32 Дикие тропы Камчатки: исследование природных богатств
- 0:29 Важность климатического оборудования











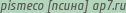 |
|